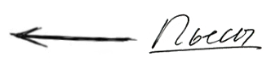
ася волошина пьесы аси волошиной
ДАМА С СОБАЧКОЙ
пьеса по мотивам рассказа Антона Чехова
ася волошина пьесы аси волошиной
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
АННА СЕРГЕЕВНА ФОН ДИДЕРИЦ – дама с собачкой;
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ГУРОВ – банковский служащий;
БУРОВ;
ВУРОВ.
ася волошина пьесы аси волошиной
0.
На морском берегу. Три мужчины – неясно, кто из них герой.
БУРОВ. Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов?
ГУРОВ. Гхм…
БУРОВ. Нет, вы, мой сударь, не отлынивайте – я вас положительно серьёзно вопрошаю. Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Так вот. Обыкновенно на бедного осла валят всё, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью: кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами… так что несчастное животное представляет из себя громадный, бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. (Высокопарная пауза.) Вот так и с браком.
ВУРОВ. Вы гипертрофируете!
БУРОВ. Ни-ни, мой сударь. Ни отнюдь. Я, господа, как сюда ехал, наблюдал такое, так сказать, живописное панно. Прокурор. Человек почтенный, человек просвещённый, с принципами и так далее. Мой знакомый по университету. Трясётся в третьем классе. Хоть престиж его от этого нет-нет, да и падет. Но какой там! Пропал к чёрту престиж! Супругу не переспоришь. Потому как супруга его – великая экономистка, и, натурально, едет вместе с ним. Меж тем, он нарочно, чтоб избавиться от супруги и придумал болезнь печенок… На юг хотел удрать. Но какая насмешка судьбы! У неё – и непритворно – врачи обнаружили то же самое! Нужно было злому року, судари мои, быть до такой заключительной степени злым. И вот сидят они, значит, на своих несметных тюках. Захожу как-то к нему в третий класс – в дороге-то скучно – вижу, склонился над ней спящей и шепчет: «Варварка ты моя! Мучительница, Иродиада ты этакая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь от тебя, Ксантиппа?… Верите ли, Мишель Мишелич? – говорит он мне. – Иной раз закрою глаза и мечтаю: а что, если бы да кабы она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Кажется, в каторгу бы упек!».
ГУРОВ. Не может быть!
БУРОВ. Накажи бог, правда. А другой раз на станции по платформе прогуливаюсь, вижу: бежит с медным чайником. Послала, значит, за кипятком благоверная. Спрашиваю: «Ну, как?». «Ах, да! – говорит, – я вам не сообщил? У меня радость!». «Какая?». «Две картонки и один мешочек у нас украли… Все-таки легче»…
ГУРОВ. Да…
ВУРОВ. Да… Поучительно.
БУРОВ. Да…
ВУРОВ. А привольно здесь, господа. Погода великолепная… воздух этот… ширь… Представьте себе, в вечерний час, когда всё спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете здесь по берегу с какой-нибудь эдакой полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико… Природа, обними меня!
БУРОВ. Экый вы поэтический.
ВУРОВ (поникнув). …И всё же кроме права выбора, над человеком тяготеет еще «закон необходимости». И всякий человек принужден выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорви-голов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет… Или же сочетаться браком.
ГУРОВ. Увы. Середины между этими двумя нелепостями нет.
БУРОВ. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. А вы?
ГУРОВ. И я женился.
ВУРОВ. И я. Как порядочный человек. Сын уж в третьем классе. Ну, а у вас?
БУРОВ. Бог милова… э-э… не дал.
ВУРОВ. А вы?
ГУРОВ. Дочь двенадцати лет.
БУРОВ. Ого.
ГУРОВ. И два сына. Гимназисты.
ВУРОВ. Фьють!… Эх, господа, знали бы вы, с какой очаровательной женщиной я познакомился прошлым летом в Кисловодске…
БУРОВ. Женщины, когда любят, климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки. А вы как полагаете?
ГУРОВ. Я, признаться полагал, что в Ялте найдётся несколько больше хорошеньких особ.
БУРОВ. Э, мамочка моя. Угодно ль анекдотец? Один увидел за ужином хорошенькую и – поперхнулся; потом увидел другую хорошенькую – и опять поперхнулся. Так и не ужинал, много было хорошеньких. (Смеётся своей остроте.) Эх, господа, знали бы вы, с какой очаровательной женщиной я познакомился прошлым летом в Липецке…
ВУРОВ. Давеча одна брюнеточка на променаде изволила уронить платок. Припустился было за ней, а смотрю: глядит точь-в-точь молодая щука, когда ее тянут крючком из воды…
ГУРОВ. Сдаётся мне, я знаю, о какой вы. Судя по лицу, впечатление такое, что под корсажем у нее жабры.
БУРОВ. Ей-ей! Вы, сударь мой, как будто с языка сняли! А заметили ли вы даму, что прежде чем войти в купальню, по пяти минут сидит на камне и, самодовольно поглаживая себя, говорит: «И в кого я такой слон уродилась? Даже глядеть страшно».
ГУРОВ. Как ни заметить? Это ж надо пожалуй что и слепым быть.
ВУРОВ. А муж за ней так и стелется: «Верунчик, мумочка моя, веревьюнчик». «Веревьюнчик». Килограм на полтораста. Целый кашалот!
БУРОВ. Нет, не скажите. Это не женщина, а полнолуние! …Давеча в одном журнале прочёл… Сочинитель пишет, дескать: когда разбогатею, то открою себе гарем, в котором у меня будут голые толстые женщины, с – простите меня, господа, – ягодицами, расписанными зеленой краской.
ГУРОВ. Неужели?
БУРОВ. Накажи меня бог, правда…
ВУРОВ. Не может быть, чтобы подобные паскудства и в журналах печатали!
БУРОВ. Не скажите. Сильно пали нравы!
ВУРОВ. Да.
ГУРОВ. Да.
БУРОВ. Да.
ВУРОВ. Скажу вам, развитой человек обязательно должен быть эстетиком.
БУРОВ. Бесспорно, мамочка моя!!! А что вы под этим разумеете?
ВУРОВ. Если уж природой положено увлекаться, то, если ты развитой человек, то – будь так добр – увлекайся одними красавицами.
Появляется дама с собачкой. С достоинством и смущением проходит.
1.
БУРОВ. Отцы основатели, да неужто. Новое лицо.
ВУРОВ. Глазам не верю, ущипните меня: дама с собачкой.
ГУРОВ. И прехорошенькая.
Все трое заметно оживляются – до того, что даже как будто молодеют – и из добрых случайных приятелей превращаются в соперников. Но, конечно, не подают вида.
БУРОВ. Ну-с!
ГУРОВ. Ну-с?
ВУРОВ. Ну-с.
ГУРОВ. Что-с?
БУРОВ. Что-с?
ВУРОВ. Что скажете?
БУРОВ. Зачем же я должен что-то непременно говорить?
ВУРОВ. Хотя бы на правах знатока.
БУРОВ. Ах, знатока. Ну, извольте…
ВУРОВ. Слушаем.
БУРОВ. Дайте сосредоточиться.
ВУРОВ. Сделайте милость.
БУРОВ. …Нет, уж лучше вы сперва.
ВУРОВ. Так отчего же я?
БУРОВ. А ну хотя бы на правах знатока.
ВУРОВ. Ах, знатока…
ГУРОВ (внезапно). Должно быть, в первый раз.
БУРОВ. Что, простите?
ГУРОВ. То есть я хочу сказать, что в первый раз, должно быть, она одна, на курорте в такой обстановке… В такой обстановке, когда за ней станут ходить, и на нее смотреть, и говорить с ней только с одною тайною целью. С целью, о которой она не может не догадываться…
ВУРОВ. Вы полагаете?
БУРОВ. Ой, бросьте. Был я знаком с одной подобной женщиной. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут её уменьем постоянно молчать – редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов! Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Прелесть! Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой… Зато ни одного фальшивого движения!..
ГУРОВ. И что же?
БУРОВ. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила…
ВУРОВ. Сочиняете?
БУРОВ. Накажи меня бог, правда. …Но золотая муха только тогда ласкает взор и приятна, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую и… потом улетает в пространство, но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос…
ВУРОВ. Старо.
ГУРОВ. Старо. Женщины все неглубоки и несерьезны, слишком любят жизнь и даже такой в сущности пустяк, как любовь к мужчине, возводят на степень счастья, страдания, жизненного переворота…
БУРОВ. Бесспорно. Истинно. Беспрекословно.
ГУРОВ. Да… Но всё же женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют.
ВУРОВ. Вы полагаете? Но наша дама с собачкой… Как бы вы рассудили: замужем?
ГУРОВ. Замужем.
БУРОВ. Замужем. Ее выражение, походка, платье, прическа говорят решительно: замужем.
ГУРОВ. Но здесь без мужа.
ВУРОВ. Без знакомых.
БУРОВ. Одна. Ее выражение, походка, платье, прическа говорят решительно: одна.
ВУРОВ. И из порядочного общества.
БУРОВ. Ну, это, мамочка моя, прозрачно, как огурец. В Ялте в первый раз. Её выражение, походка, платье…
ГУРОВ. Как это всё с вами прямо-таки разговаривает.
БУРОВ. Не ёрничайте, мамочка моя. Старо.
ВУРОВ. И ей скучно здесь.
ГУРОВ. Ой, бросьте! Не говорите мне о скуке! Был я знаком с одной подобной женщиной. Рыжая, как сам дьявол. Романист назвал бы ее состоящей из одних только нервов, я же называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Её кровообращение спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила, а захлебывалась. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс… От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей…
БУРОВ. Старо.
ВУРОВ. Старо.
ГУРОВ. Старо. Признаюсь, что когда я охладел к ней, красота её стала возбуждать во мне ненависть, а кружева на её белье стали казаться похожими на чешую. (Неожиданная искренность.)
ВУРОВ. О-ла-ла!
БУРОВ. Решительно, женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор ещё не догадались обложить акцизным сбором.
ВУРОВ. Но дама с собачкой. Как вы находите: она прямо-таки удивительно молода.
БУРОВ. Несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство… Да даже в смехе угловатость.
ГУРОВ. Кажется, еще только вчера вышла из гимназии. А может, с курсов…
ВУРОВ. О, не говорите мне о курсистках! Был я знаком с одной подобной женщиной. Высокая шатенка с голубыми глазами. В наше время если курсистка, то непременно марксистка. То есть, я хочу сказать, идейная. «Нечестно, – говорила она мне, – носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного!». Хоть к черту в пекло, хоть к крокодилу в зубы.
Гуров лорнирует его бритый подбородок.
ВУРОВ. Гхм… Моды, знаете ли, переменяются.
БУРОВ. Мужчина без усов так же скверно, как женщина с усами.
ГУРОВ. Но, может быть, она здесь с мужем?
БУРОВ. А даже если с мужем, а хоть бы и так…
ВУРОВ. Ну, знаете ли…
БУРОВ. Я знаю одно. И положительно знаю. Нет женщины, которая не изменяла бы.
ВУРОВ. Шутите?
БУРОВ. Накажи меня бог, правда.
ГУРОВ. Это, извините меня, такая ж правда, как то, что вошь кашляет.
ВУРОВ. Сейчас и видно ревнивого супруга.
БУРОВ. Верьте мне. Верьте, мамочка моя. Нет женщины, которая не изменяла бы – истинно я вам говорю. Но это ничего не значит. От этого никому не бывает вреда.
ГУРОВ. Как сказано у классика, если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.
БУРОВ. Вот именно. Так что же?
ГУРОВ. Что-с?
ВУРОВ. Что-с?
ГУРОВ. Предпримите вы что-нибудь?
ВУРОВ. В отношении дамы?
ГУРОВ. Дамы.
ВУРОВ. С собачкой?
ГУРОВ. С собачкой.
БУРОВ. Нет.
ВУРОВ. Нет. А вы?
ГУРОВ. Нет.
БУРОВ. Отчего же?
ВУРОВ. Старо.
ГУРОВ. Старо.
БУРОВ. Старо. К тому же…
ГУРОВ. Что-с?
ВУРОВ. Что-с?
БУРОВ (резонёрствует). К тому же… Разве опыт многократный, горький опыт, не научил уже давненько каждого из нас, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь, у порядочных людей неизбежно вырастает в целую задачу, и положение в конце концов становится тягостным.
ГУРОВ. Особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных…
ВУРОВ. Да и вообще… Если все до единого результаты деятельности человека рано или поздно, но неизбежно будут стёрты с лица земли, то зачем вообще прилагать к чему-либо какие-либо усилия? Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, увлекались и обольщали не меньше нашего; а теперь их и след простыл…
БУРОВ. Золотые слова. Золотые слова. Да ко всему прочему и несколько уже и не по летам. В наши лета всякий умный человек уж окончательно приходит к выводу, что женщины положительно есть…
ГУРОВ. Низшая раса.
БУРОВ. Низшая, мамочка моя, без сомнения, низшая.
ВУРОВ. Вот вам моя рука. И вам.
ГУРОВ. И вам моя.
БУРОВ. И вам.
На сцену влетает тарелочка, за которой бежит собака, хватает её и уносится за кулисы.
ГОЛОС ДАМЫ. Купидон! Купидон, ко мне.
Все трое инстинктивно группируются, чтоб в случае чего… И случай действительно предоставляется: тарелочка летит вновь, а собака запаздывает. Трое, помолодев и позабыв про философствования, бросаются тарелочку поднимать.
2.
Кутерьма.
БУРОВ. Боже мой, ваша собачка – она же неприкрытый волкодав!
АННА. Он не кусается.
ВУРОВ. Должно быть, это английская порода? Вы позволите? Аппорт!
ГУРОВ. А как её имя?
БУРОВ. Разве вы не видите, что это мальчик. Настоящий Буцефал.
ГУРОВ. Так как же его зовут?
АННА. Купидон. (Смущается.)
ВУРОВ. Очаровательно.
БУРОВ. Иди сюда, мальчик!
АННА. Мне подарили его уже с этим именем.
ГУРОВ. И вы с ним здесь давно?
АННА. Три дня.
ВУРОВ, Три дня?? Но как же вы себя скрывали?
БУРОВ. Купидон, Купидон, аппорт! Он превосходно выдрессирован.
АННА. Вы так полагаете?
БУРОВ. Купидон, апорт!
АННА. Ах!
БУРОВ. Что случилось?
АННА. Улетела в море. Купидон! Боже мой!
ВУРОВ. Он плавает, как дельфин.
Собака возвращается мокрой.
АННА. Он весь в водорослях.
ГУРОВ. Он морской волк!
АННА. Мой маленький, мой хороший. (Пристёгивает поводок.) Ну, набегался, будет.
Ласкает собаку, потом вспоминает, что бросила собеседников, смущается.
АННА. Простите меня, господа. Позвольте… где же…
БУРОВ. Что стряслось?
АННА. Моя лорнетка.
ВУРОВ. Лорнетка?
АННА. Была здесь только что.
БУРОВ. Вероятно, выпала.
АННА. Как же это? Вот наказание. Куда же могла деться лорнетка?
ВУРОВ. Должно быть, обронили. (Ищет.)
АННА. Мне без неё невозможно…
БУРОВ. Никуда решительно она не могла бесследно пропасть. Сейчас вмиг отыщется. (Ищет.)
Да, Буров и Вуров ринулись в усерднейшие поиски.
ГУРОВ. А возьмите пока мою.
АННА. Вашу?
Дама берёт у Гурова лорнетку, смотрит на него, сквозь неё. Всё переменилось. Буров и Вуров видят, что поиски бессмысленны и время упущено. Нехотя осознают и признают это и, как благородные люди, уходят. Гуров и Анна остаются вдвоём.
ася волошина пьесы аси волошиной
3.
АННА (продолжая смотреть на него). Я сквозь вашу ничего не вижу…
ГУРОВ. Совсем ничего? Как я оказался бесполезен.
АННА. Очень расплывчато.
ГУРОВ. Значит, в ваших глазах я, должно быть, похож на призрак…
АННА. Это не моя вина.
ГУРОВ. Итак, вы здесь три дня? А я уже дотягиваю вторую неделю. И как вам Ялта?
АННА. Говорят, что здесь скучно. (Смущается.)
ГУРОВ. Нет, вы только послушайте! Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!». Подумаешь, что он из Гренады приехал.
Она смеётся.
АННА. Вы правы. И обыватель недалёк, и мой город далеко не Гренада.
ГУРОВ. Откуда вы?
АННА. Я родилась в Петербурге…
ГУРОВ. О!
АННА. Но замуж вышла в Снуцк.
ГУРОВ. Вот как.
АННА. А вы похожи на московского профессора!
ГУРОВ. Неужто я так стар?
АННА. Нет, что вы. На ещё молодого профессора. (Смущается.)
ГУРОВ. Вы правы: я из Москвы. Москвича всегда распознаешь, правда? И ещё раз правы: мог бы быть, быть может, и профессором. Я по образованию филолог. А ещё готовился когда-то петь в частной опере. Но бросил и служу в банке. Тоже, в своём роде, скучная история.
АННА. Вы учились в университете?!
ГУРОВ. Да. Но не стоит говорить об этом в таком благоговейном тоне. Университет развивает все способности, в том числе – глупость.
Смеются.
АННА. Вы на себя наговариваете.
ГУРОВ. Да я, может, вовсе и не на себя, а на товарищей. О, не смущайтесь же вы! Я ведь так только в шутку.
АННА. Мне непривычно.
ГУРОВ. Вы здесь одни?
АННА. Да… То есть муж, может быть, приедет. Если отпустят дела. А я пробуду месяц.
ГУРОВ. За месяц пообвыкнитесь. А где служит ваш муж?
АННА. В земском… в губернском… управлении…
ГУРОВ. Правлении?
АННА. Управе. В губернской управе. Земской… (Смеётся.) Ну, вот и выдала себя. Я ничего в этом не смыслю. Ровно ничего. (Вдруг; будто по секрету, почти по-детски.) …В Снуцке, вы знаете, очень много заборов.
ГУРОВ. Заборов?
АННА. Да! А по осени прямо на грязь по земле стелют доски, и они будто всхлипывают под ногами.
ГУРОВ. А в театре в ложе непременно губернаторская дочь в боа?
АННА (заговорщески). Именно!
ГУРОВ. Да… Не как в Гренаде.
Смеются. Анна смущается.
АННА. Да. Должно быть, совсем не так. (Вдруг серьёзно.) Ну да каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено.
ГУРОВ. Сыростью веет от моря. Пойдёмте – я провожу вас с Купидоном. Но только с тем условием, что мы непременно увидимся завтра. Вы позволите?
Они уходят.
*
ВУРОВ. Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы… Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит шума. Впрочем…Можешь ловить и без приманки.
БУРОВ. Неужели?
ВУРОВ. Да. Так как всё равно ничего не поймаешь. Ха-ха!
БУРОВ. А хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут удить и без приманки. Нехорошенькие же дачницы должны пускать в ход приманку: сто – двести тысяч или что-нибудь вроде того…
4.
АННА. Удивительно! Удивительно, как Купидон привык к вам за пять… за шесть дней. Он уж, кажется, и меня за хозяйку не признаёт.
ГУРОВ. Анна Сергеевна, вы это говорите нарочно, чтоб я похвалил в вас дрессировщицу.
АННА. И вовсе нет.
ГУРОВ (протягивая ей стакан газировки). Остался только лимонный сироп. Отдыхающие уничтожают сиропы – будто это их злейшие враги.
АННА. Я и сама к этому приложила руку. (Пьёт.) Так душно. Мы станем сегодня с вами смотреть, как придёт пароход?
ГУРОВ. Разумеется. Поглядим на генералов, на пожилых дам, одетых точно молодые. Словом, на всю ялтинскую толпу.
АННА. Днём был такой ветер…
ГУРОВ. Срывало шляпы.
АННА. Пыль.
ГУРОВ. Вечер всё же принёс прохладу. Вы сегодня задумчивы.
АННА. Скажите что-нибудь интересное.
ГУРОВ. Что?
АННА. Что-нибудь, Дмитрий Дмитриевич. Как это вы давеча говорили? «Деспотия и в науке так же сильна, как на войне…». Что-нибудь в этаком роде.
ГУРОВ. Могу сообщить вам, Анна Сергеевна… Могу сообщить вам, что Черное море бедно фауной и что на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьезные зоологи работают на биологических станциях в Неаполе или… Я плохо вас развлекаю(?)
АННА. Ну, что вы. Вы так хорошо, так умно, так необыкновенно говорите. (Сильно смущается.)
ГУРОВ. Необыкновенно – я? О, бросьте.
АННА (с нажимом, даже с вызовом). Да, необыкновенно.
ГУРОВ. Простите, но я тем более не могу в это поверить от того, что вы с обеда меня не слушаете. Я теперь, кажется, совершенно не в силах угадать вашего настроения. Ещё давеча вас, кажется, увлекала моя беспомощная научная болтовня…
АННА. Не наговаривайте на себя, Дмитрий Дмитриевич. …Море так гладко. И в него так весело и спокойно глядится бирюзовое небо… Как называются цветы, что вы мне нарвали?
ГУРОВ. Помилуйте, Анна Сергеевна, я ведь не ботаник.
АННА. Я гимназисткой уча ботанику, помню, всё умилялась: какие чудесные названия. Богородицины слезки, малиновка, вороньи глазки… А теперь…
ГУРОВ. Вся жизнь человеческая подобна цветку, пышно произрастающему в поле: пришел козел, съел и – нет цветка… Отчего вы так смотрите?
АННА. Вчера поздно вечером я вышла на веранду. И мне – не смейтесь – пришла фантазия, что природа как будто сердится на меня. Лунный свет затуманился, стал словно бы грязнее, звезды еще больше нахмурились… А потом мне почудилось, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одной только… От мужа пришло письмо. Он на днях собирается ехать в Ялту.
ГУРОВ. Да? Ну, что же. Анна Сергеевна, это… превосходно. Поздравляю вас. Вам не придётся больше скучать и довольствоваться моим скромным, моим унылым обществом.
АННА. Дмитрий Дмитриевич, мой муж… Тени становятся длиннее и выходят из самих себя, как рога улитки… Мой муж… Мой муж… Он, полагая, что это оригинально, говорит, что мужчина состоит из мужа и чина.
ГУРОВ. Ну, что ж…
АННА. Он… Он…
ГУРОВ. Анна Сергеевна!
АННА. Он… Боже, не дай мне выговорить – мне будет после совестно.
ГУРОВ. Вы будто в жару.
АННА (овладевая собой). Простите. Это было минутное. Это к лучшему. Это – как вы сказали? – превосходно. Да, и правда, превосходно, что Алексей Александрович приедет. Что ж? Куда же мы теперь? Ах, я и позабыла: должно быть, уже пора на мол. Смотреть, как приходит пароход…
ГУРОВ. Анна Сергеевна! (Привлекает её к себе и целует.) Как же вы прекрасны! (Целует ещё раз.) Анна Сергеевна! Пойдёмте к вам.
5.
Всё случается мучительно, страстно и страшно. И двое видят несхожие сны.
В какой-то момент Анна исчезает в перинах. Гуров ищет её. Её призрак появляется с книгой «Анна Каренина». Гуров его не видит.
*
АННА. «То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, – это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем.
– Анна! Анна! – говорил он дрожащим голосом. – Анна, ради бога!..
Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее.
– Боже мой! Прости меня! – всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки.
Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения: а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценой стыда. Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством.
И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи – то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, – рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колена и хотел видеть ее лицо; но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко.
– Все кончено, – сказала она. – У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это.
– Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья…
– Какое счастье! – с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. – Ради бога, ни слова, ни слова больше.
Она быстро встала и отстранилась от него.
– Ни слова больше, – повторила она со странным для него выражением холодного отчаяния на лице».
Входят Буров и Вуров. Едят арбуз.
БУРОВ. Вы согласитесь, мамочка моя, женщины, поддавшиеся соблазну, имеют досадную привычку портить сладчайшие минуты тем, что принимаются немедленно каяться и играть роль. Это всегда так чрезвычайно некстати. Нарекают себя грешницами, ломают руки… Слёзы, скука, раскаянье. Слёзы, скука, раскаянье. Как будто у них за правило заведено. Как будто бы они получают в банке проценты от того, что оборачивают тот эдем, который только что подарили мужчине, в унылый балаганчик с ряжеными. Да-с, в балаганчик с ряжеными, где всякий день объявляется премьера, а вместо того идёт один и тот же кукольный водевиль. Слёзы, скука, раскаянье. Слёзы, скука, раскаянье. Такая редька, что хоть не связывайся. Сантиментально, приторно и неумно. И муж! Всегда у них вот в этакую минуту непременно на память приходит муж – будто больше некому. А это уж, подавно, согласитесь, мамочка моя, конечно, менее всего к ряду.
ВУРОВ. Анафемство! Мне хочется в баню. Мне хочется в пруд, чтоб меня поглодали караси. Выкупаться хочется. Пойду зайду в море по шею и простою там – плавать-то я не мастак. Очиститься простит душа. Вздор, вздор, шарлатанство и фокусы: поддался на этот анафемский пикантный тон, вспомнил молодость, присочинял ещё, а между тем… Да, не без греха, да, не без греха. «Двенадцать женщин я бросил, девять бросили меня». Ой, вздор, ой, вздор. Да увлекал, да увлекался. Но всё же – я же муж. Я муж! – говорю я вам, и я не потерплю. Во рту вкус будто бы с похмелья. Я муж! Я муж, и у меня жена дома. Хорошая жена, верная жена. Маша меня любит. Моя жена меня любит… Но когда я смотрю на свою жену, я желаю только одного. Чего же? – спросите вы и приторно так улыбнётесь. Чего же? А я скажу. Чтобы это 27-летнее красивое существо естественным порядком поскорей состарилось, и перестало бы мне доставлять мученье тем, что манит других. Вот как-с. Вот как-с. Так-с. (Уходит. Возвращается.) А изменившая жена – это большая холодная котлета, которой не хочется трогать, потому что ее уже держал в руках кто-то другой.
ася волошина пьесы аси волошиной
*
ГУРОВ. Анна!
АННА. Вы не будете меня теперь уважать.
ГУРОВ. Отчего бы я мог перестать уважать тебя? Ты сама не знаешь, что говоришь.
АННА. Пусть бог меня простит! Это ужасно.
ГУРОВ. Ты точно оправдываешься.
АННА. Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно в своей душе обманываю. Мой муж…
ГУРОВ. Ты позволишь, если я закурю?
АННА. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он… я не смогла выговорить тогда, а он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, я знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить… Любопытство меня жгло… Вы этого не понимаете, но, клянусь богом, там в Снуцке я уже не могла владеть собой. Два года этой жизни… Со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда… И здесь все ходила, как в угаре, как безумная… и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.
Гуров подходит к оставленному арбузу, отрезает себе ломоть.
ГУРОВ. Я не понимаю. Что же ты хочешь?
АННА. Верьте, верьте мне, умоляю вас… Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Вы верите? Скажите, верите? Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.
ГУРОВ. Так-то ты обо мне? Ну, не смотри так. Полно, полно.
АННА. Дмитрий! (Будто очнувшись от одной беды для другой.) А ваша жена?
ГУРОВ. Ну, что ты, ну, полно. Не будем сейчас об этом.
АННА. Вы ничего мне о ней не говорили.
ГУРОВ. Так что же?
АННА. Это мука. Мука и мука, и одна я во всём виновата.
ГУРОВ. Анна… Брать взятки и писать доносы – это дурно, а любить – это никому не вредит.
АННА. Не говорите! Молю: не говорите страшных вещей. Вы возвышенный, вы должны так оставаться. Это я дрянная, я…
ГУРОВ. Это, наконец, не может так бесконечно продолжаться. Это, пожалуй, даже слишком. (Может быть, решив сменить тактику.) Боже мой, как же ты хороша. (Движение к ней, попытки поцелуев.) Волосы твои, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения слились в тебе в один цельный, гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту…
АННА. Погодите. Погодите! Скажите мне, скажите мне о ней – я должна знать.
ГУРОВ (целуя). Что, что, что, о ком?
АННА. Жена.
ГУРОВ. Ай, наказанье, Анна, что жена?
АННА. Скажите.
ГУРОВ. Что? Ну, что же мне сказать. Меня женили рано – еще студентом второго курса. Анна. Вы не знаете, как прекрасны. И… И никто не знает. Да, никто не знает. Я один.
АННА. Постойте, Дмитрий, мне… мне надо знать.
ГУРОВ. Про что?
АННА. Да про жену же.
ГУРОВ. Вы меня измучите. Жена. Жена, жена, жена. Отрежьте мне два метра жены.
АННА. Что?
ГУРОВ. Это так, это ничего. Ну, что тебе надо знать? С темными бровями, прямая, важная, солидная…
АННА. Да? (Себе бы никогда не созналась, но, кажется, немного успокаивается.)
ГУРОВ. И кажется в полтора раза старше… Не пишет в письмах «ять», меня именует Димитрием, потому что мыслящая – называет себя мыслящей. О, Анна, Анна, это всё не то. О том ли надо нам теперь?..
АННА. И… и она теперь несчастна.
ГУРОВ. Да вовсе нет!
АННА. Не спорьте. Разве не ужасно положение жены, к которой охладели?
ГУРОВ. Анна, Анна, если бы ты видела себя сейчас, если бы только себя видела, ты бы не стала меня мучить этими расспросами. Ты б поняла, что ты сама мне оправдание – вся сама, какая есть. И что иначе и не могло быть. Ну же. Теперь совсем-совсем не такое время.
АННА. Постойте. Мне душно. Постойте. Мне надо на воздух.
ГУРОВ. Давай я распахну окно.
АННА. Нет! Я после, после буду вам покорна совершенно – раз иначе быть не может, раз нет возврата, а сейчас… Прошу, поедемте куда-нибудь. Я не могу – сейчас, здесь – не могу смотреть вам в глаза.
ГУРОВ. Ну, как хочешь. Пожалуй. Пожалуй, это и лучше. Поедем, пожалуй, в Ореанду.
ася волошина пьесы аси волошиной
6.
БУРОВ. Бывают же, я прошу заметить, на свете удачники.
ВУРОВ. О ком это вы?
БУРОВ. Да о тех, кому так счастливо удаются любовные экспромты.
ВУРОВ. А, вот оно о ком. А вам и завидно. Признайтесь, ну-ка, «мамочка моя».
БУРОВ. «Накажи меня бог», нет. И всё-таки. Ну, вы подумайте. Каждый божий полдень две недели к ряду встречаются на набережной, завтракают вместе, обедают – будто так и полагается.
ВУРОВ. Полно вам. Бывали и на ваших улицах карнавалы.
БУРОВ. Да, но гуляют! Ездят на водопады – помилуйте. Как какие-нибудь, прости-Господи, молодожёны.
ВУРОВ. Целует он её в парках и скверах не как молодожён, а с оглядкой и страхом. Думает, что никто не видит.
БУРОВ. Помилуйте! Все видят. Только плечами жмут.
ВУРОВ. Ходили слухи, муж приедет, да, кажется, не отпустили дела.
БУРОВ. Ну, и к добру: бог нервы поберёг. Говорю вам, если вы женаты трижды – поздравляю вас: значит, у вас три комплекта превосходнейших ветвистых рогов. Поздравляю. Поздравляю. (Ждёт руку.)
ВУРОВ (сквозь зубы). Я единожды женат.
БУРОВ. Ну, так и радуйтесь. Радуйтесь!
Буров и Вуров уходят.
АННА. Море так шумит… Шумит, и я думаю: так шумело, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет.
ГУРОВ. Как ты хороша. И как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.
АННА. Теперь меня только одно томит: ты меня не уважаешь.
ГУРОВ. Анна! Я говорю тебе: брать взятки и писать доносы – это дурно, а любить – это никому не вредит.
АННА. Любить… А ты… ты…
ГУРОВ. Что? Ты что-то хочешь у меня спросить?
АННА. Ты разве, правда, любишь? То есть не только видишь во мне пошлую падшую женщину, а, в самом деле… любишь…
ГУРОВ. Анна… Анна-Анна…
БУРОВ. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь.
ГУРОВ. Анна…
АННА (вдруг резко, торопливо). Не говори. Не надо. Я верю.
ГУРОВ. Я теперь, кажется, совершенно не в силах угадать твоего настроения. Ещё до обеда была весела…
АННА. Скажи что-нибудь…
ГУРОВ. Что, что, дружок?
АННА. Что-нибудь интересное. Как это ты давеча говорил…
ГУРОВ. Что же сказать… Наша вселенная, быть может, находится в зубе какого-нибудь чудовища…
АННА. Ты смеёшься? Я люблю, когда ты такой весёлый. Скажи мне ещё что-нибудь.
ГУРОВ. Ну, что же сказать? Несомненно, я односторонен и до некоторой степени даже узок.
АННА. Не наговаривай! Ты себя не знаешь.
ГУРОВ. Не спорь. Я узок. Но здесь бывают минуты, когда мне кажется, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца и что мысль моя широка, как море…
АННА. Ещё что-нибудь. Другое. Я прошу тебя.
ГУРОВ. Изволь. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, и есть наше нормальное состояние. Влюблённость указывает человеку, каким он должен быть.
АННА. Дмитрий…
ГУРОВ. То?
Анна целует его с жаром и благодарностью.
АННА. …Пахнет гелиотропом. Какие чудесные названия раньше были у цветов: богородицины слезки, малиновка, вороньи глазки…
ГУРОВ. Что с тобой, Аня? Я теперь, кажется, совершенно не в силах угадать твоего настроения. Ещё до обеда была весела… Что с тобой, Аня? Я теперь, кажется, совершенно не в силах угадать твоего настроения. Что с тобой, Аня?…
АННА. Дмитрий! От мужа пришло письмо.
ГУРОВ. Да? Вот как? Вот как? И… Он… едет?
АННА. Нет. Извещает, что у него разболелись глаза. Разболелись глаза, разболелись глаза… Умоляет вернуться домой. Так и должно быть. Так и должно было быть. Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено. Так и должно быть. Надо ехать.
7.
Перед прощанием. На вокзале.
АННА. Так и должно быть, так и должно быть.
ГУРОВ. Как ты хороша сейчас.
АННА. Это хорошо, что я уезжаю. Это сама судьба. Дайте я погляжу на вас еще… Погляжу еще раз. Вот так.
ГУРОВ. У тебя лицо дрожит.
АННА. Некрасиво?
ГУРОВ. Что ты.
АННА. Купидон! Купидон, фу! Наказание с ним. …Я буду о вас думать… вспоминать. Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Скажите мне что-нибудь.
ГУРОВ. Будь счастлива.
АННА. Господь с вами.
Поезд уезжает.
8.
Гуров чувствует приятное и томное поэтическое расслабление.
ВУРОВ. Вы знаете, когда лирически настроенный русский человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в безвестности, и он рефлективно хватается за карандаш и спешит записать на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие, укромные уголки всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел: “О. П. (то есть оставил память) Иван Корольков 16 мая 1876 года”. Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил: “На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн”. И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то Кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человечек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн.
ГУРОВ. Ну, баста. Пора на север.
Пишет своё имя.
9.
На Гурова накатывается Москва. Череда бесконечных дней.
*
БУРОВ. А, Дмитрий Дмитриевич! Желаю здравствовать. Как супруга, как банк? А, постойте-постойте: я припоминаю, что вы поправлять здоровье ездили. Посвежели, голубчик, загорели. Ну-с, ну-с. И как там поживает наш юг?
ГУРОВ (с апломбом, артистически). А знаете… старые липы и берёзы, белые от инея, ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы.
ВУРОВ. Оригинально.
ГУРОВ. Хотите верьте, хотите нет. У них… добродушное выражение. Можете считать меня сумасбродом. Вблизи них уже не хочется думать о горах и море.
БУРОВ. Соскучились, стало быть, там по домашнему очагу? Небось, из тихой семейной гавани теперь носа не кажете? А то бы пригласил вас к сегодня ужинать.
ГУРОВ. Не могу. Со всей душой бы, но не могу. В Докторском клубе играю сегодня в карты с профессором.
ВУРОВ. Стало быть, будто бы и не уезжали?
ГУРОВ. Будто бы и не уезжал.
*
БУРОВ. Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!
ВУРОВ. Да, действительно, ужасно скучно.
БУРОВ. Живешь, как в Австралии: ни общих интересов, ни солидарности… Рестораны, клубы, званые обеды, юбилеи…
ВУРОВ. Я – московский Гамлет.
БУРОВ. Старо.
ВУРОВ. Рассудите: зачем вообще прилагать к чему-либо какие-либо усилия, если все до единого результаты деятельности человека рано или поздно, но неизбежно будут стёрты с лица земли?
БУРОВ. Да, когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, мостили дороги, заседали в собраниях не меньше нашего; а теперь их и след простыл… А, Дмитрий Дмитриевич! Желаю здравствовать. Как супруга, как банк?
ГУРОВ. Благодарю, вполне, вполне, вполне.
ВУРОВ. Стало быть, будто бы и не уезжали?
ГУРОВ. Будто бы и не уезжал.
*
ВУРОВ. Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!
БУРОВ. Да, действительно, ужасно скучно.
ВУРОВ. Живешь, как в Австралии: ни общих интересов, ни солидарности… Рестораны, клубы, званые обеды, юбилеи…
БУРОВ. Я – московский Гамлет.
ВУРОВ. Старо.
БУРОВ. Рассудите: селедочка всем закускам закуска.
ВУРОВ. Ну, нет, огурец лучше… Ученые с сотворения мира думают и ничего умнее соленого огурца не придумали… А, Дмитрий Дмитриевич! Желаю здравствовать. Как супруга, как банк?
ГУРОВ. Благодарю, вполне, вполне, вполне.
ВУРОВ. Стало быть, будто бы и не уезжали?
ГУРОВ. Будто бы и не уезжал.
*
БУРОВ. Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!
ГУРОВ. Да, действительно, ужасно скучно.
БУРОВ. Живешь, как в Австралии: ни общих интересов, ни солидарности…
ГУРОВ. Рестораны, клубы, званые обеды, юбилеи… Я – московский Гамлет.
ГУРОВ. Старо.
БУРОВ. Рассудите: московские доктора – те же адвокаты, с тою только разницей, что адвокаты только грабят, а доктора и грабят и убивают.
ГУРОВ. А московские повара?! Вы разве не заметили? Осетрина-то давеча была с душком.
ВУРОВ. А, Дмитрий Дмитриевич! Что это у вас?
ГУРОВ. Благодарю, вполне, впол… А?
ВУРОВ. Как будто извёсткой запачкались. Нет, виноват: это просто седина проступает. Ну, мужчине это к лицу.
БУРОВ. Стало быть, будто бы и не уезжали?
ГУРОВ. Будто бы и не уезжал.
Вдруг звук, похожий на гудок парохода. Гуров вздрагивает всем телом.
ГУРОВ. Что это??
БУРОВ. Ась? Так это у меня часы. Часы. Товарищи подарили. С таким кунштюком. Я ведь в обществе развития пароходства по четвергам заседаю – вы не знали? Побледнели весь… Больно вы нервны стали – будто бы и не лечились. …Однако мне пора на ужин. Прощайте. (Уходит.)
ГУРОВ (бормочет). Это ничего. Это ничего. Пройдет какой-нибудь месяц, и она покроется туманом. Покроется туманом. Будет только разве изредка сниться, как снились другие. Это ничего.
ВУРОВ (Бурову). Я на днях ехал поездом в Петербург, и мне мой попутчик – почтенный глава семейства, и так далее, и так далее, теперь уж совсем старик – рассказал о своей прошедшей молодости. Признаться, презабавный анекдотец. Дескать, познакомился он где-то на водах с очаровательной женщиной.
ГУРОВ. Она не снится мне…
ВУРОВ. И всё бы великолепно: восторги, упоенья – всё умеренно и как полагается, да только вернулся на север, а она у него всё из головы нейдёт.
ГУРОВ. Она не снится мне, а идёт за мной всюду, как тень.
ВУРОВ. Мол – заглянет он в буфет за полуштофом – она в стекле отражается; слышит из соседней комнаты голоса детей – как будто она с ним говорит; завывает в камине метель – здрасьте, пожалуйста.
ГУРОВ. Её дыхание, ласковый шорох её одежды…
ВУРОВ. Один месяц, другой месяц – беда. И вроде б даже ничего так чтобы особенного в ней не было, и вроде бы не примечательнее других… А только не проходит.
ГУРОВ. Закрывши глаза, я вижу ее, как живую, и она кажется красивее, моложе, нежнее… Нет, не то. Не то. Главное, я сам… Я сам себе кажусь лучше, чем был тогда, в Ялте.
ВУРОВ. Визиты забросил, обеды, исхудал. Романов не заводит. Романов не заводит, а жена плачет: ты ко мне переменился. Никогда такого не бывало. И так ходит, он, как угорелый, ходит, а потом заворачивает в железнодорожную кассу и покупает билет. К ней.
ГУРОВ. Анна!
ВУРОВ. Как говорится, «в деревню, в глушь, в Саратов». Приехал, записку передал, всё как в романе; повстречались. Шёл к ней, как в омут, а только глядит и видит: носик, может и миленький, да нерешительно вздернут, рот мал, профиль заманчивый, но слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам… Словом, дама как дама. И вне южного поэтического флёра сильно проигрывает. Пожалуй, что и хорошенькая, но ничего такого, чтоб из ряда вон. И тут, он говорит, почувствовал себя Атлантом. Атлантом, у которого с плеч вмиг целый Капитолий свалился. Ну, слава богу, примерещилось. Домой возвратился – всё в свою колею. Визиты, обеды, романы, домашний очаг… А только, говорит, страшнее той минуты – перед тем, как «Капитолий свалился», – ничего в его жизни не было. До сих пор, говорит, в кошмарах приходит. Ну-с… Опрокидонтом.
БУРОВ. За прекрасных дам.
ВУРОВ. За низшую расу.
Выпивают.
БУРОВ. Строгая водка! А, Дмитрий Дмитриевич, не желаете присоединиться?
ГУРОВ. Что? Охотно!
БУРОВ. Ученые с сотворения мира думают и ничего умнее соленого огурца не придумали… Ну-с…
Выпивают.
ГУРОВ. Ах, господа, если б вы знали…
ВУРОВ. Что-с?
БУРОВ. Строгая водка!
ГУРОВ. Так, ничего….
ВУРОВ. А я, Дмитрий Дмитриевич, желаю вам заметить: отменно верно вы вчера рассудили по поводу осетрины. С душком. Ну-с…
Выпивают.
ГУРОВ. Если б вы знали…
БУРОВ. Что-с?
ВУРОВ. Ну-с…
Выпивают.
ГУРОВ. Никогда! Никогда она не была со мной счастлива.
ВУРОВ и БУРОВ. Строгая водка!
ВУРОВ. Не желаете ли партию?
БУРОВ (захмелев). Я московский Гамлет.
ГУРОВ. Как вы сказали?
ВУРОВ. Дмитрий Дмитриевич, а вы? Все в мерехлюндии. Ну-с, так я сам. (Принимается за бильярд.)
БУРОВ. Я московский Гамлет. Начать с того, что я ровно ничего не знаю. Когда-то я учился чему-то, но, чёрт его знает, забыл ли я всё или знания мои никуда не годятся… Например, когда говорят мне, что Москве нужна канализация или что клюква растет не на дереве, то я с изумлением спрашиваю: «Неужели?». С самого рождения я живу в Москве, но ей-богу не знаю, откуда пошла Москва, зачем она, к чему, почему, что ей нужно. От утра до вечера жру в трактире Тестова и сам не знаю, для чего жру. Я не умею ни говорить, ни спорить, ни поддерживать разговора. В обществе мужчин мне не по себе, и не диво: я не знаю, о чём говорить. Лишь среди женщин я чувствую себя свободно. Без женщин я не могу прожить и двух дней, но в трактире никогда не упущу случая назвать их низшей расой. Когда в обществе говорят со мной о чем-нибудь таком, чего я не знаю, я начинаю просто мошенничать. Я придаю своему лицу несколько грустное, насмешливое выражение, беру собеседника за пуговицу и говорю: «Это, мой друг, старо». Старо. Когда при мне говорят, например, о театре и современной драме, я ничего не понимаю, но когда ко мне обращаются с вопросом, я не затрудняюсь ответом: «Так-то так, господа… Положим, всё это так… Но идея же где? Где идеалы?». Или, вздохнув, восклицаю: «О, бессмертный Мольер, где ты?!» и, печально махнув рукой, выхожу в другую комнату. Я брожу, как тень, ничего не делаю, печенка моя растет и растет… Московский Гамлет. Тащите меня на Ваганьково!
Один раз! Один только раз жизнь моя была озарена настоящим чувством. И я мыслил! Уверяю вас, мыслил! Первый раз в жизни я мыслил усердно и напряженно, и это казалось мне такой диковиной, что я думал: «Я схожу с ума!». Перепугался и бросил.
Правда, я одеваюсь по моде, стригусь у Теодора, и обстановка у меня шикарная… Но ни мостовые, покрытые желто-бурым киселем, ни сорные углы, ни вонючие ворота, ни безграмотные вывески, ни оборванные нищие – ничто не оскорбляет во мне эстетики. Я, ничего не знающий и некультурный, в сущности, всем доволен, но я делаю вид, что я ничем не доволен. Давеча молодой литератор в клубе читал… монолог несчастной жены, к которой охладевают. Движенья, так сказать, её души. Что гадко, без конца гадко, то что муж нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной. Что несправедливо и нечестно, отдавать чужим то, что по праву принадлежит его жене, прятать от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась?…. И свежо, и с глубоким пониманием вопроса и психологии. А я ему: «Старо». Старо… Тоска.
ГУРОВ. Как вы сказали?
ВУРОВ. Я говорю: жёлтого дуплетом в середину.
БУРОВ. Тоска… Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…
ГУРОВ. Тоска…
ВУРОВ. Тоска… Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…
ПРИЗРАК АННЫ. Тоска…
ГУРОВ. Анна!!?
ПРИЗРАК АННЫ. Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…
ГУРОВ. Анна! Я схожу с ума! Всё. Всё. Всё кончено. Посыльный! Позовите посыльного. (Пишет на клочке бумаги и произносит.) «Спешно уезжаю на три… на четыре дня в Петербург хлопотать за одного молодого человека». Доставьте это по моему московскому адресу. Кончено. Кончено. Еду в Снуцк.
ася волошина пьесы аси волошиной
10.
Пока звучал канон тоски, московский клуб развеялся, и перед Гуровым встал во всю свою высоту снуцкий забор.
Гуров один. Он ходит вдоль чудовищного забора.
ГУРОВ. Тоска! Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем… Забор! От такого забора убежишь. «…В Снуцке, вы знаете, очень много заборов… А по осени прямо на грязь по земле стелют доски, и они будто всхлипывают под ногами. …А в театре в ложе непременно губернаторская дочь в боа…». Анна! Никогда. Никогда ты не была со мной счастлива. Сквозило тенью что-то… Как бы я хотел это изменить. До чего же всё-таки омерзительный забор! И ноги зябнут. Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключение… Вот и ходи тут.
И муж. Муж, вероятно, дома. Что там ещё за муж. Представляется отчего-то высокий… с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с… выхоленными такими бакенами. В своей земской управе или губернском правлении эффектно окрысивается на подчинённых… Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай.
Как все это глупо и беспокойно.
А может, и не было ничего? Может, дама как дама. Может, дама как дама. (С надеждой.)
Из-за забора слышен лай собаки. Гуров весь вздрагивает. Хочет позвать пса.
ГУРОВ. Как же тебя… Как же его… (не может вспомнить кличку собаки.) Разволновался. Смешон.
Разве я любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, оригинальное, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в моих отношениях? Разве не безделица? …А может, забыла. Забыла и, быть может, уже развлекается с другим. Да! Да! (Зло, с укором.) И это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. (Бьёт по нему, ударяется.) Тоска. Нет, какая тоска… Дама как дама. Московский Гамлет. Смешон!
Глупо и беспокойно. Все здесь, однако, просто поразительно серое. А в Москве? В Москве разве не то? Разве не унизительно и нечисто. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, в бильярд, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Филистимляне и селёдка! Лучшее время, лучшие силы – все разъедается и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь. Какая-то чепуха. И уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах! Разве там не серый забор с гвоздями? И как пошлы все эти люди, у которых на толстых губах осетриний жир и зализанное слово «старо», которое они, кажется, готовы употреблять на завтрак, обед и ужин, которое уж так истёрлось, лоснится…
Гуров замечает афишу.
ГУРОВ (читает иронически). «Оперетта “Гейша”. Чувствительная история любви, одиссеи и вероломства. Гастроль. Только одно представление в городской опере». Должно быть, первый акт на исходе. Воображаю зрелище. Нестройный оркестр, дрянные обывательские скрипки, так старо… в ложе… в ложе губернаторская дочка в боа. Губернаторская дочка… Минуту. Минуту. Очень возможно. А я, дурак, здесь. (Торопливо приглаживает волосы, поправляет что-то в костюме, чтобы сейчас же быть в опере.)
Зал заполняют звуки настраивающегося оркестра и театральный свет.
ГУРОВ. Анна!
Он видит её в зале.
11.
Оба переживают потрясение.
АННА. Дайте я погляжу на вас еще… Погляжу еще раз. Вот так.
ГУРОВ. Отчего вы смотрите с таким ужасом? Отчего вы молчите?
АННА. Дайте я погляжу на вас…
ГУРОВ. Не молчите, пожалуйста. Только слово…
АННА. Дайте я погляжу на вас…
ГУРОВ. Анна.
Она поднимается на сцену.
АННА. Как вы меня испугали! О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?
ГУРОВ. Как мне объяснить это, Анна?
АННА (затравленно смотрит в зал). Мне кажется, что из всех лож смотрят.
ГУРОВ. Никогда! Никогда вы не были со мной счастливы. Помните тогда…
АННА. Какие тогда красивые названия были у цветов!
ГУРОВ. Тогда вечером на станции, проводив вас, я говорил себе, что все кончилось и никогда уже мы не увидимся.
АННА. Вы были такой необыкновенный.
ГУРОВ. Но как еще далеко было до конца!
АННА. Тоска. Громадная, не знающая границ. Лопни грудь и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…
ГУРОВ. Вы не рады, что я приехал?
АННА. Я вдруг как будто услышала разом фальшь всех скрипок. Уезжайте!
ГУРОВ. Вы теперь… Наполняете всю жизнь… как ни смешно. Вы не рады?
АННА. Я так страдаю.
Гуров бросается её целовать.
АННА. Что вы делаете, что вы делаете! Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас… Заклинаю вас всем святым, умоляю… Сюда идут!
ГУРОВ. Анна!
АННА. Вы должны уехать… Слышите, Дмитрий Дмитрич.
ГУРОВ. Нет!
АННА. Я после, после буду вам покорна совершенно – раз иначе быть не может, раз нет возврата, а сейчас… Я не могу – сейчас, здесь – не могу смотреть вам в глаза. …Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!
Они расходятся и сходятся вновь.
ГУРОВ. Единственное! Единственное счастье, которое я бы для себя желал.
АННА. Но что же делать?
ГУРОВ. Хорошая моя!
АННА. Сказала мужу, еду посоветоваться с доктором насчёт моей болезни. И верит и не верит.
ГУРОВ. Никогда. Никогда ты не была со мной счастлива.
АННА. Пора.
ГУРОВ. Только теперь. Только теперь я полюбил. Как глупо. Анна.
Расходятся и сходятся вновь.
ГУРОВ. Только теперь. Только теперь я полюбил. Как глупо. Анна.
Она обнимает его, пряча лицо.
ГУРОВ. Ну, ну, поплачь. Поплачь, моя хорошая.
АННА. Мы как две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках.
ГУРОВ. Ну, будет, будет… Ну… Перестань, моя хорошая, поплакала – и будет… Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.
АННА. Пора.
ГУРОВ. Тоска…
Расходятся и сходятся вновь.
ГУРОВ. Тоска…
АННА. Мы как две перелетные птицы…
ГУРОВ. Перестань, моя хорошая, поплакала – и будет…
АННА. Какие красивые раньше были названия у цветов. Прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу.
ГУРОВ. Ну, ну, поплачь. Поплачь, моя хорошая.
АННА. Тоска…
ГУРОВ. Как? Как?…
АННА. А помнишь, в Ялте…
ГУРОВ. Не плачь. Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем. Еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь.
АННА. Пора…
Расходятся и сходятся… Этому нет конца.
2017 г.

